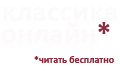Русская и мировая классика Переводы и оригиналы |
Глава одиннадцатая
В назначенный день я отправился к мисс Хевишем и на мой звонок у калитки ко мне вышла Эстелла. Она, как и в первый раз, открыла калитку и впустила меня, после чего я последовал в темный коридор, где горела свеча. Она не обращала на меня никакого внимания, пока не взяла подсвечник в руки; обернувшись ко мне через плечо, она сказала мне: — «Ты пойдешь сегодня этой дорогой!» — и повела меня за собой в другую часть дома.
Коридор был очень длинный и шел, по-видимому, кругом всего нижнего этажа Манор-Хауса. Мы прошли одну только часть четырехугольника, в конце которого Эстелла остановилась, поставила свечу на пол и открыла запертую на замок дверь. Здесь снова показался дневной свет, и я очутился на небольшом мощеном дворе, на противоположной стороне которого находился отдельный дом, где, по-видимому, жил когда-то управляющий или главный клерк бывшей пивоварни. В наружной стене дома были вделаны часы. Подобно стенным и карманным часам мисс Хевишем, они остановились на без двадцати девять.
Мы вошли через открытую дверь и прошли в комнату с низким потолком, которая находилась в задней стороне нижнего этажа. В комнате было целое общество, и Эстелла сказала мне, — «Пойди туда и подожди, пока тебя позовут». — «Туда» означало окно; я прошел через комнату и остановился у окна, в самом грустном настроении духа посматривая в него.
Оно было очень низко от земли и выходило на самый скверный уголок заброшенного сада с грядками, где виднелись остатки сгнившей капусты и буковое дерево, давно когда-то подстриженное в виде пудинга; на верхушке этого пудинга выросли теперь новые отпрыски совсем иного вида и цвета. Можно было подумать, что пудинг пристал к кастрюльке и пригорел. Так думал я, глядя на буковое дерево. В ту ночь шел снег, но теперь его нигде не было видно, за исключением этой части сада; ветер подхватывал его и пушинки его летели в окно, как бы делая мне выговор за то, что я пришел сюда.
Я смутно догадывался, что приход мой помешал общему разговору и что все теперь смотрят на меня. Я ничего и никого не видел в комнате, за исключением отражения огня на оконном стекле; но одного сознание того, что я являюсь предметом наблюдения, было уже достаточно, чтобы я чувствовал себя как нельзя более неловко.
В комнате находились три леди и один джентльмен. Не успел я простоять и пяти минут у окна, как у меня почему-то сложилось убеждение, что все это люди низкие и льстивые, и что каждый из них притворялся, будто не знает, что все остальные такие же льстецы и шарлатаны, как и сам он. Ибо допустив, что он или она это знает, значило признать и себя принадлежащим к таким же льстецам и шарлатанам.
Все они с невыразимым видом тоски ждали, по-видимому, чего то; самая болтливая из леди даже зевала много раз от скуки. Эта леди, по имени Камилла, очень напоминала мне мою сестру, с тою только разницею, что она была старше и (как мне показалось, когда я взглянул на нее) черты лица у неё были не такие резкие. Когда потом я больше познакомился с ней, я нашел, что это было даже к лучшему, ибо резкие черты совсем не подходили к такому плоскому и бесцветному лицу, какое было у неё.
— Бедняжка! — говорила эта леди так же отрывисто, как и моя сестра. — Никому не враг, кроме самого себя.
— Было бы несравненно естественнее быть чьим-нибудь врагом, — заметил джентльмен.
— Кузен Раймон, — сказала другая леди, — мы должны любить своего ближнего.
— Сара Покет, — отвечал кузен Раймон, — если человек не ближний самому себе, кто же его ближний?
Сара Покет засмеялась и Камилла засмеялась и сказала: (стараясь скрыть зевок) — «Интересная идея!»
Я подумал, что им всем пришлась по вкусу эта идея. Третья леди, которая не говорила еще до сих пор, заметила: — «Совершенно верно!»
— Бедняжка! — начала снова Камилла, (я чувствовал, что все смотрят на меня в эту минуту), — он такой странный! Можно ли было поверить, когда умерла жена Тома, что он не мог додуматься до того, как важно, чтобы дети в то утро надели самый глубокий траур! «Боже мой, — сказал он, — какое значение может иметь, Камилла, будут эти крошки в черном или нет?» Совсем как Матью! Тоже идея!
— Хорошие у него качества есть, хорошие, — сказал кузен Раймон. — Боже избави меня, чтобы я вздумал отрицать эти хорошие качества, но у него никогда не было и никогда не будет понятия о том, что такое приличие.
— Я была, знаете ли, обязана, — сказала Камилла, — обязана быть твердой. Я сказала, — «Так нельзя поступать ради чести своей семьи». Я сказала ему, что отсутствие траура дает повод к злословию, позорящему семью. Я надрывалась с самого завтрака и до обеда. Я повредила своему пищеварению. Наконец, он вышел из себя и сказал мне, — «А, чёрт! делай, что хочешь!» Слава Богу, это всё-таки было некоторым утешением для меня. Несмотря на проливной дождь, я тотчас же отправилась в лавки и закупила все, что нужно.
— Уплатил он за все это или нет? — спросила Эстелла.
— Вопрос не в том, милое дитя, кто уплатил, — отвечала Камилла. — Я покупала все. Я часто думаю об этом, когда просыпаюсь ночью, и душа моя наполняется тогда миром.
Где то вдали послышался колокольчик, затем чей-то крик или зов пронесся по коридору, по которому мы шли недавно. Разговор прекратился, и Эстелла сказала мне:
— Идем, мальчик!
Я обернулся, и взоры всех с величайшим вниманием обратились на меня, и в ту минуту, когда я выходил, я услышал, как Сара Покет сказала:
— О, я уверена! Что-то еще будет дальше!
А Камилла прибавила с негодованием:
— Видали вы такие фантазии? Вот так идея!
Когда мы шли со свечой по темному коридору, Эстелла вдруг остановилась и, оглянувшись кругом, с самым задорным видом склонила свое лицо к моему.
— Ну?
— Что, мисс? — отвечал я, споткнувшись и едва не падая на нее.
Она стояла и смотрела на меня, я также стоял и смотрел на нее.
— Красивая я?
— Да! Мне вы кажетесь очень красивой.
— Дерзкая я?
— Сегодня вы не такая, как прошлый раз, — отвечал я.
— Не такая?
— Нет.
Предлагая последний вопрос, она сильно покраснела, и не успел я ответить ей, как она размахнулась и ударила меня по щеке.
— Ну? — сказала она. — Что ты теперь думаешь обо мне, маленькое ты грубое чудовище?
— Я не скажу.
— Потому что намерен сказать там наверху?.. Не так ли?
— Нет, — отвечал я, — не потому.
— Ты чего же не плачешь, дрянь?
— Потому что не стоит плакать из-за вас, — отвечал я.
Вряд ли когда в своей жизни давал я более лживый ответ. Все плакало в душе моей, и в тот час я познал уже муку, которую впоследствии много раз испытывал из-за неё.
Мы подошли к лестнице после этого эпизода и стали подниматься, когда увидели какого-то джентльмена, спускавшегося вниз.
— Кто это? — спросил джентльмен, останавливаясь и внимательно всматриваясь в меня.
— Мальчик, — отвечала Эстелла.
Это был человек дородный и необыкновенно смуглый, с чрезмерно большой головой и соответственно этому большими руками. Он взял меня за подбородок и повернул лицо мое таким образом, чтобы лучше рассмотреть его при свете свечи. На голове его красовалась огромная лысина, черные густые брови его топорщились и торчали, как щетка; глаза сидели глубоко в орбитах и взгляд их был крайне неприятный, резкий и подозрительный. На жилете у него болталась толстая часовая цепочка, а лицо усеяно было черными точками на тех местах, где должны были расти борода и бакенбарды. Для меня он в тот момент не имел никакого значения, ибо я не мог предвидеть, что когда либо столкнусь с ним, но тем не менее я как-то случайно заметил эти подробности. — Живешь где-нибудь по соседству? А? — спросил он.
— Да.
— Как ты попал сюда? — спросил он.
— Мисс Хевишем сама послала за мной, — сказал я.
— Да?.. Веди себя хорошенько. Я человек опытный и хорошо знаю мальчиков. Это скверный народ, братец ты мой! Смотри же, веди себя примерно! — сказал он, грозя мне указательным пальцем и хмуря брови.
С этими словами он выпустил мой подбородок и пошел дальше вниз по лестнице, чему я был очень рад, так как от руки его несло сильным запахом душистого мыла. Сначала у меня мелькнула мысль, что это был доктор, но затем я подумал, что он не может быть доктором, так сак для доктора, казалось мне, у него были недостаточно покойные и степенные манеры. Но у меня не хватило времени на дальнейшие рассуждение, потому что мы скоро пришли в комнату мисс Хевишем, где все было в том же виде, как и в первый раз. Эстелла оставила меня у дверей, и я стоял там, пока мисс Хевишем не увидела меня.
— Так! — сказала она, ничуть, по-видимому, не удивляясь моему появлению. — Дни канули в вечность, не так ли?
— Да, мэм! Сегодня…
— Нет, нет, нет! — сказала она, нетерпеливо двигал пальцами. — Я не желаю знать. Ты приготовил какое-нибудь развлечение?
— Думаю, что нет, мэм! — отвечал я с некоторым смущением.
— В карты опять? — спросила она, осматриваясь кругом.
— Да, мэм, если вы желаете.
— Ну, если дом этот производит на тебя такое впечатление, что ты делаешься старым и мрачным, — с нетерпением продолжала мисс Хевишем, — и не хочешь играть, так не хочешь ли, по крайней мере, работать?
На этот вопрос я мог ответить гораздо охотнее и увереннее, чем на первый, и сказал, что готов работать.
— Тогда или в ту комнату, напротив, — указала она рукой на дверь, находившуюся позади меня, — и жди, пока я приду.
Я перешел площадку лестницы и вошел в указанную мне комнату. Из этой комнаты был также изгнан дневной свет, и воздух в ней был удушливый. В старомодном камине положены были дрова, которые не горели, а больше тлели, и вся комната была наполнена выходившим оттуда дымом, который казался холоднее чистого воздуха и напоминал собою мартовский туман. На высоком камине стояли зажженные канделябры, которые тускло освещали комнату, или, говоря вернее, не освещали, а лишь до некоторой степени нарушали её темноту. Комната была огромная и когда-то должно быть очень красивая, но все вещи в ней были покрыты пылью и плесенью. Предмет, который прежде всего бросился мне в глаза, был длинный стол, покрытый скатертью, как будто все здесь было приготовлено к пиршеству в тот момент, когда часы и жизнь в доме навсегда остановились. Посреди стола я увидел какой-то странный предмет, до того покрытый паутиной, что невозможно было положительно различить его формы; внимательно присматриваясь к этому предмету, который, точно черный гриб, вырос из середины пожелтевшей скатерти, я увидел пестрых пауков с длинными ногами, — живших, по-видимому, в этом предмете, как у себя дома, и то входивших, то выходивших из него. Можно было подумать, что в общине этих пауков случилось сегодня какое-то событие, имеющее громадное значение для всех её членов.
Надо полагать, что и у мышей случилось такое же важное происшествие, потому что они слишком сильно скреблись и бегали за панелями. Зато черные тараканы не принимали решительно никакого участия в общем волнении; они ползали кругом камина, были, казалось слепы и глухи ко всему окружающему и не особенно интересовались друг другом.
Эти ползающие тараканы так заняли меня, что я весь углубился в наблюдение над ними и только тогда услышал, что мисс Хевишем вошла в комнату, когда она положила мне руку на плечо. В другой руке она держала палку, загнутую крючком на верхнем конце, и опиралась на нее. В таком виде она ужасно напоминала старую волшебницу.
— Там вот, — сказала она, указывая палкой на длинный стол, — положат меня, когда я умру. Они придут и будут смотреть на меня.
Я вздрогнул от ужаса, представив себе, что вот она сейчас умрет и ее положат на этот стол, где она будет лежать, точно восковая фигура на ярмарке.
— Ты как думаешь, что это такое? — спросила она, снова указывая палкой. — Это вот, что покрыто паутиной?
— Не могу догадаться, мэм!
— Это большой пирог. Свадебный пирог. Мой!
Она мрачным взглядом обвела всю комнату и затем, сильнее облокотившись на мое плечо, сказала:
— Ну, скорее, скорее! Води меня, води!
Из этих слов я вывел заключение, что работа моя будет состоять в том, чтобы водить мисс Хевишем по комнате. На этом основании я двинулся вперед и мисс Хевишем, опираясь на мое плечо, пошла сначала таким скорым шагом, который я мог сравнить с подражанием движению одноколки мистера Пембельчука.
Но она была слишком слаба и немного спустя сказала мне:
— Тише!
Несмотря на это, она все еще продолжала идти довольно скорым, но неровным шагом, крепко надавливая мне на плечо, и все время перебирала губами, как бы стараясь заставить меня думать, что мы потому идем так скоро, что мысли её бегут скоро. Наконец она сказала:
— Позови Эстеллу!
Я вышел на площадку лестницы и стал звать Эстеллу, как и в первый раз. Когда вдали мелькнула её свеча, я вернулся к мисс Хевишем и мы по-прежнему продолжали ходить кругом комнаты.
Будь даже одна Эстелла зрительницей нашего путешествия, то и тогда мне было бы неловко, а между тем она привела с собой трех леди и джентльмена, которых я видел внизу. Я не знал, куда мне деваться. Я хотел было остановиться, но мисс Хевишем сдавила мне плечо и мы двинулись дальше… Мне было стыдно, что они подумают, будто это я придумал такое развлечение.
— Дорогая мисс Хевишем! — сказала мисс Сара Покет. — Как вы хорошо выглядите!
— Нет! — отвечала мисс Хевишем. — Я мешок желтой кожи с костями.
Камилла просияла от удовольствие, что мисс Покет получила такой ответ; жалобно поглядывая на мисс Хевишем, она прошептала:
— Бедняжка! Где уж тут выглядеть хорошо! Вот тоже, идея!
— А вы как поживаете? — спросили мы с Хевишем Камиллу.
В эту минуту мы поравнялись с Камиллой и я хотел остановиться, но мисс Хевишем не захотела. Мы двинулись дальше, и я почувствовал, что становлюсь ненавистным Камилле.
— Благодарю вас, мисс Хевишем, — отвечала она. — Я чувствую себя настолько хорошо, насколько это возможно.
— Что же такое с вами? — необыкновенно резко спросила её мисс Хевишем.
— Ничего такого, чтобы стоило говорить, — отвечала Камилла. — Я не желаю выкладывать наружу все свои чувства, но я привыкла по ночам слишком много думать о вас, чтобы спать.
— Тогда лучше не думайте обо мне, — отвечала мисс Хевишем.
— Легко сказать! — заметила Камилла, удерживая рыдание; её глаза были полны слез и губы дрожали. — Раймон может засвидетельствовать, сколько я употребляю ночью имбиря и сколько раз нюхаю нашатырный спирт. Раймон может засвидетельствовать, какие нервные подергивание бывают у меня в ногах. Обмороки и нервные подергивание мне не новость, когда я с тревогой думаю о тех, кого люблю. Будь я менее привязчива и чувствительна, у меня было бы лучшее пищеварение и железные нервы. Я очень не прочь, чтобы это было так. Но не думать о вас ночью!… Вот еще идея!
Я догадался тут, что Раймон, о котором говорилось сейчас, был присутствующий джентльмен, и что он муж Камиллы. Когда она кончила говорить, он ласково и нежно сказал ей:
— Камилла, моя дорогая, всем хорошо известно, что семейные чувства ваши довели вас до того, что одна нога у вас сделалась короче другой.
— Не понимаю, — сказала серьезная леди, голос которой я слышал всего только раз, — почему думать о ком-нибудь значит предъявлять на него свои претензии?
Мисс Сара Покет, маленькая, сухая пожилая женщина со сморщенным худеньким личиком, как будто сделанным из каштановой скорлупы и с большим кошачьим ртом без усов, ответила на это:
— Нет, без сомнения, моя дорогая! Гм!
— Думать так просто! — сказала серьезная леди.
— Чего проще! — согласилась мисс Сара Покет.
— О, да, да! — воскликнула Камилла, пылкие чувства которой поднялись из её ног к самой груди её. — Это глубокая истина! Это большой недостаток быть привязчивой, но я ничего не могу поделать против этого. Здоровье мое было бы несравненно лучше, будь я в силах изменить свой характер. В этом кроется вся причина моих страданий, но в этом также я нахожу и утешение себе, когда просыпаюсь ночью.
Здесь последовал новый взрыв чувств.
Мисс Хевишем и я, мы все время ни на минуту не останавливались и продолжали ходить кругом комнаты, то проходя мимо посетителей, то оставляя их позади себя.
— Вот Матью! — сказала Камилла. — Он не признает никаких родственных уз и никогда не посещает мисс Хевишем! Я падала в обморок на диван, мне разрезывали шнурки на корсете… Целыми часами лежала я так без чувств… Голова моя лежала на бок, волоса бывали распущены, а ноги… уж я, право, не знаю, где были мои ноги.
— Выше твоей головы, моя милая, — сказал ей муж.
— Часами, целыми часами, оставалась я в таком положении, и все из-за безобразного и необъяснимого поведения Матью, и никто за это даже спасибо не сказал.
— Вот уж никогда не думала этого, — заметила серьезная леди.
— Видите, моя дорогая, — сказала мисс Сара Покет, — весь вопрос заключается в том, от кого желали бы вы слышать благодарность?
— Не ожидая никакой благодарности и ничего в этом роде, — продолжала Камилла, — я целыми часами оставалась в таком состоянии, и Раймон может засвидетельствовать, до чего доходили мои обмороки; даже имбирь не действовал на меня. Напротив, у настройщика, все слышали, что со мною делалось, а дети его принимали мои стоны за воркование голубя… И теперь я скажу…
Камилла схватилась рукой за горло, в котором у неё начался какой-то странный процесс, долженствовавший, вероятно, способствовать образованию новых идей.
Когда было упомянуто имя Матью, мисс Хевишем остановилась и не спускала глаз с говорившей, что произвело громадное влияние на Камиллу и сразу остановило её горловой процесс.
— Матью придет, когда все кончится, — грозно крикнула мисс Хевишем, — и когда я буду лежать на столе! Вот где будет его место, — продолжала она, указывая палкой на стол, — у моего изголовья! А ваше здесь! Вашего мужа здесь! Сары Покет здесь! А Джорджианы здесь! Теперь все вы знаете, где должны стоять, когда будете праздновать мою кончину. А теперь вон отсюда, все вы!
Называя чье-нибудь имя, она поднимала палку и указывала ею новое место.
— Води же меня, води, — сказала она затем, и мы снова двинулись кругом комнаты.
— Здесь, кажется, нечего больше делать! — воскликнула Камилла. — Остается проститься и уйти. Все же, хотя на короткое время, а что-нибудь да значит увидеть предмет своей любви и исполнить свой долг. Просыпаясь ночью, я буду думать об этом с грустным чувством удовлетворения. Желаю от души, чтобы и Матью испытал такое чувство, но он с пренебрежением относится к этому. Я не люблю рисоваться своими чувствами, но жестоко говорить, будто мы собираемся праздновать кончину… и затем выгонять прочь… Идея, нечего сказать!
Камилла прижала руку к тяжело поднимающейся груди, но муж поспешил к ней и она, приняв вид, будто употребляет неимоверные усилие, чтобы не упасть в обморок тут же, послала рукой поцелуй мисс Хевишем и поспешила выйти вместе с мужем. Сара Покет и Джорджиана уступали дорогу друг другу, — каждой из них хотелось остаться, — но первая перехитрила последнюю и так ловко скользнула в сторону, что Джорджиане пришлось пройти вперед. Тогда Сара, проговорив, — "Бог да благословит вас, мисс Хевишем, моя дорогая!" — с сострадательной улыбкой на лице цвета сморщенной каштановой скорлупы кивнула в сторону только что вышедших и вышла в свою очередь.
Пока Эстелла провожала их со свечой, мисс Хевишем продолжала ходить, опираясь на мое плечо и постепенно замедляя шаги. Наконец она остановилась у камина, несколько минут смотрела на огонь и сказала:
— Сегодня день моего рождения, Пип!
Я хотел было пожелать ей много еще таких дней, но она остановила меня движением палки.
— Я не терплю, когда говорят об этом. Я не хочу, чтобы те, которые были сейчас здесь, или кто бы там ни был другой, говорили об этом. Они всегда приходят в этот день, но никогда не смеют упоминать о нем.
Я также, само собой разумеется, не упоминал больше о нем.
— В этот день, задолго еще до твоего рождения, принесена была сюда эта куча гнили, — продолжала она, указывая палкой на кучу паутины, но не притрагиваясь к ней. — Она и я, мы вместе гнили. Мыши изгрызли ее, а меня точили несравненно более острые зубы, чем у мышей.
Она стояла, прилив конец своей палки к сердцу, и смотрела на стол; она была в белом когда-то платье, теперь пожелтевшем и поношенном; белая когда-то скатерть тоже пожелтела и износилась, и все кругом было в таком состоянии, что должно было, казалось, разрушиться от малейшего прикосновения.
— Когда наступит полное разрушение, — сказала она мрачно, — и они положат меня мертвую в венчальном платье на этот свадебный стол, — это будет, конечно, сделано и будет последним проклятьем для него, — то будет еще лучше, если это случится в этот именно день.
Она стояла и смотрела, и, казалось, видела свою собственную фигуру, лежащею на этом столе. Я стоял спокойно. Эстелла вернулась и тоже стояла спокойно. Мне казалось, что это длится слишком долго. Под влиянием удушливого воздуха в комнате и темноты, прячущейся по всем углам, мне пришла в голову тревожная мысль, что и мы с Эстеллой начнем вот сейчас разрушаться.
Но вот мисс Хевишем пришла вдруг в себя и сказала:
— Поиграйте-ка оба в карты. Отчего вы не играли до сих пор?
Мы вернулись в её комнату и уселись за карты. Я проигрывал все время, как и прошлый раз, а мисс Хевишем сидела и наблюдала за нами, то и дело обращая внимание мое на красоту Эстеллы и прикладывая ожерелье то к её шее, то к её волосам.
Эстелла со своей стороны обращалась со мною не только по-прежнему, но даже не хотела говорить со мною. Мы сыграли раз шесть, и мисс Хевишем, назначив мне день, когда я должен прийти, приказала свести меня во двор, где меня снова накормили, как собаку. И на этот раз меня оставили одного, чтобы я мог погулять, где хочу.
Не помню, была ли калитка в стене сада, когда я был здесь первый раз и влезал на стену; дело в том, что я тогда ее не видел, а теперь вдруг увидел. Она стояла открытая настежь, а так как я знал, что Эстелла вывела гостей через наружную калитку — при мне она вернулась с ключами в руке — то я бросился в сад и обежал весь его кругом. Сад был совсем запущен и заброшен; здесь были, правда, старые парники, где когда-то росли дыни и огурцы; теперь же в них не было никакой решительно растительности, вообще ничего, кроме кусков старых шляп и сапогов и разбросанных там и сям остатков битой посуды.
Я осмотрел весь сад, побывал в оранжерее, где теперь ничего больше не оставалось, кроме сухой виноградной лозы и нескольких бутылок и, выйдя отсюда, очутился в грязном уголке, который я видел сегодня, стоя у окна. Совсем не думая о том, живет ли кто-нибудь в этом доме или нет, я заглянул в одно из окон и к величайшему удивлению своему увидел, что на меня смотрит в окно бледный молодой джентльмен с красными веками и белокурыми волосами.
Бледный молодой джентльмен отошел от окна и спустя минуту стоял уже рядом со мной. Он сидел за книгами, когда я увидел его, а теперь я заметил, что все пальцы у него в чернилах.
— Эй ты, мальчик! — крикнул он.
Так как «эй» было в таких случаях обыкновенным выражением, то я отвечал ему тем же «эй», но из вежливости выпустил слово мальчик.
— Кто тебя впустил сюда? — спросил он.
— Мисс Эстелла.
— Кто тебе позволил бегать везде?
— Мисс Эстелла.
— Пойдем-ка драться, — сказал бледный молодой человек.
Что мне было делать? Следовать за ним? Я часто с тех пор задавал себе этот вопрос, — что я мог сделать? У него были такие изящные манеры, я был так удивлен, что последовал за ним, точно находясь под влиянием каких то чар.
— Погоди минутку, — сказал он, когда мы прошли несколько шагов и вдруг перевернулся колесом. — «Надо же выдумать какой-нибудь предлог, чтобы ты мог драться… Придумал!»
И в ту же минуту он самым подзадоривающим манером хлопнул в ладоши, отставил одну ногу назад, схватил меня за волосы, снова хлопнул в ладоши и, наклонив голову, неожиданно ударил меня ею в живот.
Этот поистине бычачий поступок, помимо того что был крайне дерзок и нахален, был еще и крайне неприятен, в виду недавно съеденного мною хлеба с мясом. Я бросился на него, ударил и хотел еще ударить, когда он, сказав мне, — «Ага, хочешь, значит, драться!» — принялся прыгать взад и вперед, взад и вперед, вытворяя при этом разные непонятные для меня и невиданные мною фокусы.
— Законы игры! — кричал он, перепрыгивая с левой ноги на правую. — Главные основные правила! — И он перепрыгнул с правой ноги на левую. — Идем на место и приступим к предварительным действиям! — Он прыгнул вперед, прыгнул назад и проделал еще кое-какие штуки, пока я стоял и беспомощно смотрел на него.
Ловкость его пугала меня и я начинал побаиваться его; тем не менее, я как в моральном, так и в физическом отношении чувствовал, что он не имел никакого права тыкать меня в живот своей белокурой головой. Я последовал за ним, не говоря ни слова, в самый отдаленный угол сада, который находился в том месте, где две стены сходились вместе; уголок этот скрывался за рядом кустарников. Он спросил меня, доволен ли я местом и, когда я ответил ему «да», просил извинения, что должен оставить меня на несколько минут и вернулся очень скоро с бутылкой воды и губкой, пропитанной уксусом.
— Пригодится нам с тобой, — сказал он и поместил все это у самой стены.
Затем он стал раздеваться и не только снял с себя сюртук и жилет, но даже рубашку и постарался придать себе деловой и кровожадный вид.
Несмотря на то, что он выглядел не особенно крепким и здоровым и все лицо его было покрыто прыщами, я страшно напугался, видя эти ужасные приготовления. Судя по виду, он был одних почти лет со мною, но только выше и гораздо увертливее меня. Теперь, когда он разделся, видно было, что все части его тела локти, колена, руки, ноги развиты вполне хорошо и пропорционально.
Сердце упало у меня, когда я увидел, как он с видом опытного борца внимательно рассматривает меня, как бы стараясь наметить самое больное место. Никогда в жизни своей не удивлялся я так, как увидя его лежащим на спине с окровавленным носом после первого же моего удара,
Он моментально вскочил на ноги, быстро вытер лицо губкой и снова приготовился напасть на меня. Каково же было мое удивление, когда и после второго удара моего он очутился на спине, поглядывая на меня подбитым глазом.
Его необыкновенное присутствие духа внушало мне большое уважение. Он не отличался, по-видимому, большой силой и ни разу не ударил меня крепко, а я всякий раз сбивал его с ног. Через минуту он встал, вытерся опять губкой, выпил несколько глотков воды из бутылки, делая все это с видимым чувством удовлетворения, и, наконец, двинулся на меня с таким видом, точно на этот раз собирался покончить со мною. Но я нанес ему еще несколько тяжелых ударов и, к сожалению своему, должен сознаться, что чем больше я бил, тем я бил крепче; он вставал, вставал и вставал до тех пор, пока не полетел головой прямо в стену. После этого кризиса он все же встал и несколько раз повернулся кругом себя, не видя меня; он упал на колени и пополз к губке, подбросил ее вверх и проговорил, задыхаясь:
— Это значит, что ты выиграл.
Он казался таким невинным и храбрым и я, несмотря на то, что не сам первый вызвал его на драку, почувствовал себя далеко неудовлетворенным своей победой. В настоящее время меня утешает только то, что одеваясь после драки, я все время сравнивал себя с лютым волчонком и другими дикими зверями. Когда он оделся и вытер окровавленное лицо свое, я подошел к нему и сказал:
— Могу я помочь вам чем-нибудь?
— Нет, благодарю!
— Доброго вечера! — сказал я.
— Доброго вечера! — отвечал он мне.
Выйдя во двор, я нашел там Эстеллу, ожидавшую меня с ключами. Она не спросила меня, где я был и почему заставил ее ждать; её лицо было покрыто румянцем и сияло, как будто она была чем то довольна. Вместо того, чтобы провести меня к калитке, она зазвала меня в коридор и там сказала:
— Иди скорей сюда! Если хочешь, можешь меня поцеловать.
Она повернулась ко мне, и я поцеловал её щеку. Я готов был несчетное число раз целовать её щеку. Но я почувствовал вдруг, что поцелуй этот был дан грубому, простому мальчишке, как плата за что-то, и он потерял свою цену для меня.
Все эти посетители по случаю дня рождения, карты, драка задержали меня так долго, что когда я приближался к дому, на длинной песчаной отмели за болотами горел уже сторожевой огонь, резко выделяясь на фоне темного ночного неба, и отблеск пылавшего горна в кузнице Джо длинной полосой лился из окна, падая поперек дороги.
Глава 11
«Большие надежды» Ч. Диккенс
Искать произведения | авторов | цитаты | отрывки ![]()
Читайте лучшие произведения русской и мировой литературы полностью онлайн бесплатно и без регистрации, без сокращений. Бесплатное чтение книг.
Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению.
Фрэнсис Бэкон
Без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни слова, ни многосторонней шири понимания; Гёте и Шекспир равняются целому университету. Чтением человек переживает века.
Александр Герцен