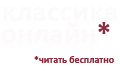Русская и мировая классика Переводы и оригиналы |
Глава тридцать четвертая
По мере того как я свыкался с своими надеждами, я невольно стал замечать их влияние на меня самого и окружающих. Влияние их на мой характер я старался всеми силами скрывать от себя, очень хорошо сознавая, что перемена во мне была не к лучшему. Я постоянно находился в каком-то хроническом состоянии сомнения насчет моего поведения с Джо. Повесть моя далеко также не оправдывала моих отношений к Бидди. Просыпаясь по ночам, подобно Камилле, я часто думал, что был бы лучшим человеком и гораздо счастливее, если б никогда не видал мисс Хевишем и довольствовался скромной долей помощника Джо в честной, старой кузнице. Часто сидя один по вечерам перед камином, я задумчиво смотрел на огонь и думал, что все-таки огонь кузницы и нашего домашнего очага лучше и милее мне всех огней на свете.
Однако Эстелла была столь постоянным предметом моих мыслей и беспокойств, что право я затруднился бы сказать, насколько источником тревожного состояния моего ума была Эстелла и насколько мои надежды. Я этим хочу сказать, что если б надежд моих вовсе не существовало, и Эстелла была бы единственным предметом моих дум, то навряд ли мое нравственное состояние много разнилось бы от теперешнего. Что ж касается до влияния, производимого моими надеждами на окружающих, то его легче было определить, и я, хотя и не очень ясно, но сознавал, что они никому не приносили пользы, и конечно, менее всех Герберту. Мои расточительные привычки ввели его в большие долги, которых он не в состоянии был платить; словом, они развратили его простую жизнь и нарушили его спокойствие. Я вовсе не упрекал себя в том, что невольно побуждал других членов семейства Покетов делать низости: их характеры были так мелочны, что если б не я, то кто-нибудь другой привел бы их к тому же. Но Герберт дело иное, и совесть меня часто укоряла, что я очень худо услужил ему, заменив его простую старую мебель нелепыми изделиями современного искусства и отдав в его распоряжение моего ливрейного грума.
Таким образом, идя от одной роскоши к другой, я начал входить в огромные долги. Но я не мог делать долгов, чтоб их не делал и Герберт, и вот он вскоре последовал моему примеру. По совету Стертопа мы записались кандидатами в клуб, носивший хитрое название «Товарищества Лесных Зябликов». Я никогда не догадался, в чем состояла цель этого общества, если не в том, чтоб раз в две недели члены его собирались роскошно и дорого пообедать, после обеда вдоволь поспорить, и доставить случай шестерым лакеям напиться пьяным на лестнице. Я знаю, что эти три цели так хорошо достигались обществом, что мы с Гербертом только на это и видели намек в обычном тосте нашего клуба: «Милостивые государи, выпьем за постоянное сохранение тех дружеских отношений, которые существуют ныне между „Товариществом Лесных Зябликов“».
Зяблики бессмысленно сорили деньгами (мы всегда обедали в трактире в Ковент-Гардене) и первым зябликом, которого я увидел, имев честь поступить в их число, был Друммель. Он в то время ничего не делал, только катался по городу в собственном экипаже, оббивая тумбы на углах. Но распространяясь об этом, я несколько увлекаюсь и нарушаю нить рассказа, ибо я был еще несовершеннолетним и, по священным законам общества зябликов, не мог быть его членом. Вполне уверенный в своих огромных средствах, я бы охотно взял на себя все издержки Герберта, но он был горд и я не смел ему это предложить. Итак, он втянулся в бесконечные долги, продолжая по-прежнему ничего не делать, а только „осматриваться“. По мере того, как мы стали засиживаться и поздно ложиться спать, я начал замечать, что Герберт осматривался по утрам, до завтрака — с каким-то отчаянием, а в половине дня уже с надеждою; во время обеда он падал духом, вечером яснее сознавал возможность иметь капиталы, а к полуночи уже чуть не чувствовал себя капиталистом; зато к двум часам утра им овладевало такое отчаяние, что он начинал бредить о том, что купит ружье и отправится в Америку искать счастья и богатства в охоте на буйволов.
Я обыкновенно проводил полнедели в Гаммерсмите и часто ездил оттуда в Ричмонд; об этих посещениях впоследствии скажу подробнее. Герберт часто приезжал в Гаммерсмит, когда я там был, и, мне кажется, по случаю этих приездов отец его догадывался, что он еще не „осмотрелся“ и не открыл себе никакого поприща в жизни. Но так как все семейство Покетов жило как-нибудь, спотыкаясь на каждом шагу, то они не отчаивались, что Герберт как-нибудь наткнется на жизненное поприще. Между тем мистер Покет седел все более и более и чаще и чаще старался приподнять себя за голову. Мистрис Покет по-прежнему заставляла все семейство спотыкаться об её скамейку, читала список дворянских родов, теряла платок и рассказывала нам про своего дедушку.
Так как я теперь обобщаю целый период моей жизни, чтоб перейти к последующим событиям, то лучше всего теперь же сообщу подробности и нашего житья-бытья в гостинице Бернарда.
Мы расходовали очень много денег, получая взамен очень мало пользы и удовольствия. Мы всегда более или менее чувствовали себя несчастными, и в том же положении находилась большая часть наших приятелей. Мы все воображали, что постоянно наслаждаемся жизнью, хотя что-то всегда говорило нам противное. Я думаю, что наше положение было очень обыкновенное для молодых людей.
Каждое утро Герберт отправлялся в Сити, чтоб «осматриваться». Я часто посещал его в темной, пустой комнате, где он сиживал один в сообществе чернильницы, конторки, стула и линейки. Насколько помню, я никогда не видал, чтоб он там что-нибудь делал. Если б мы все так ревностно исполняли наши обязанности, как Герберт, то, право могли бы жить в идеальной республике добродетелей. Он не имел никакого занятия кроме того, чтоб в известный час пополудни «сходить к Ллойду». Я полагаю, это была церемония представления начальнику. Он ничего другого не делал в своем звании конторщика у Ллойда. Когда он находился в очень серьезном настроении духа и чувствовал, что ему необходимо открыть себе какое-нибудь поприще, он отправлялся на биржу во время сходки там всех капиталистов и важно прохаживался между ними с видом приезжего. Приходя домой после такого посещение биржи, он всегда говаривал: — «Я вижу, Гендель, что хорошая карьера не придет к вам сама, надо идти к ней навстречу… Вот я и ходил».
Если б нас не связывала теплая любовь, то, право, я думаю, мы положительно каждое утро ненавидели бы друг друга. Я не мог видеть наших комнат в эти минуты раскаяния, а грум мой становился мне совершенно противным. Он казался мне в это время больше, чем во все остальные сутки, бесполезным предметом роскоши. Чем более мы делали долгов, тем горче становился нам утренний кофе. Однажды, когда во время его принесли мне письмо, грозившее судебным иском, я до того разгорячился, что схватил за шиворот грума за его замечание о необходимости вести счета, и так тряхнул его, что он очутился на воздухе.
Иногда я говаривал Герберту, как будто что новое:
— Милый Герберт, наши дела очень плохи.
— Милый Гендель, — обыкновенно отвечал он, — я только что хотел сказать то же. Вот странное совпадение!
— Ну, так, Герберт, — замечал я, — рассмотрим наши дела.
Мы всегда чувствовали какое-то удовольствие решиться на такое занятие. Я полагал, что это было дело, что это значило мужественно встречать опасность. Я уверен, что Герберт разделял мое мнение.
Тогда мы заказывали к обеду какое-нибудь особенное кушанье и вино, чтоб подкрепиться на такое важное занятие. После обеда мы притаскивали кучу перьев, бумаги и порядочное количество чернил. Одно зрелище изобилия этих припасов было уже очень утешительно.
Потом я обыкновенно брал листок бумаги и надписывал наверху очень аккуратно заголовок: — «Счет долгов Пипа», и прибавлял «гостиница Бернарда» и число. Герберт также брал листок бумаги и с теми же формальностями ставил заголовок: «Счет долгов Герберта».
Каждый из нас тогда обращался к кучке записок и бумажек, долго валявшихся и в ящиках, и в карманах, и за зеркалами; многие из них были изгажены, и даже частью сожжены от употребления их на зажигание свечей. Скрип наших перьев имел очень успокоительное действие, так что я не мог понять разницы между этим назидательным занятием и действительною уплатою долга. По своему добродетельному характеру эти оба дела казались мне равносильны. Когда мы несколько времени прилежно занимались, я прерывал молчание, спрашивая Герберта, как идет его дело? Герберт, почесывая голову, обыкновенно отвечал: — «Цифры-то растут, Гендель, честное слово, растут».
— Не унывай, Герберт, — отвечал я, усердно водя пером, — Разбери хорошенько свои дела. Смотри прямо в глаза опасности!..
— Я бы рад, но цифры сами очень сердито смотрят на меня.
Но моя решительность имела свое влияние, и Герберт опять принимался за работу. Через несколько времени он снова бросал дело, отговариваясь, что у него не достает счета Кобба, Лобба, Нобба, или кого-нибудь другого.
— Так поставь круглым числом, Герберт.
— Какой ты молодец на выдумки! — отвечал мой друг в восхищении. — Действительно, у тебя великолепные способности к делам.
Я был того же мнения. В подобных обстоятельствах я считал себя деловым человеком — деятельным, решительным, хладнокровным. Когда я все свои долги списывал с отдельных бумажек на общий лист, я сверял их и отмечал черточкой: при каждой черточке мною овладевало какое-то великолепное чувство довольства самим собою. Когда уже мне не оставалось более ничего отмечать, я свертывал в одинаковую форму все записки и счета, надписывал на задней стороне их содержание, и связывал в симметрические пачки. Потом то же делал и для Герберта, который скромно замечал, что он не имел административного гения. Покончив это занятие, я чувствовал, что устроил и его дела.
Мои способности к делам выразились еще в другой важной мере, которую я называл «оставлять поле». Например, положим, долги Герберта составляли сто шестьдесят четыре фунта и четыре с половиною пенса. Тогда я говорил: «оставь поле и пиши круглым числом двести фунтов!» Или, положим, мои долги были вчетверо более его долгов, я оставлял «поле» и ставил круглым числом семьсот фунтов. Я очень этим утешался, но должен теперь признаться, что это было разорительное самообольщение. Мы всегда делали новые долги и наполняли оставленное поле и часто даже, полагаясь на чувство свободы и состоятельности, перебирали и начинали новое поле.
По, после такой ревизии наших дел нами овладевало чудное спокойствие, и я убеждался все более и более в моих редких способностях. Довольный своими трудами, методою и комплиментами Герберта, я долго с удовольствием сиживал между моими и Гербертовыми пачками счетов. В эти минуты я чувствовал себя как бы целым банком, а не частным лицом.
Во время этих важных занятий мы обыкновенно запирали двери, чтоб нас не беспокоили. Однажды, только что я начал ощущать успокоительное действие «поля», как вдруг какое-то письмо упало к нам в комнату чрез отверстие в двери.
— Это письмо тебе, Гендель, — сказал Герберт, вставая и передавая мне его. — Надеюсь, ничего не случилось худого, — прибавил он, указывая на черную кайму и печать.
Письмо было подписано «Требб и Комм» и заключало в себе следующие известия: во-первых, что я был «почтеннейший сэр», а, во-вторых, что миссис Гарджери скончалась в прошедший понедельник, вечером в 6 часов и 20 минут, а похороны её назначены в будущий понедельник в три часа пополудни.
Глава 34
«Большие надежды» Ч. Диккенс
Искать произведения | авторов | цитаты | отрывки ![]()
Читайте лучшие произведения русской и мировой литературы полностью онлайн бесплатно и без регистрации, без сокращений. Бесплатное чтение книг.
Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению.
Фрэнсис Бэкон
Без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни слова, ни многосторонней шири понимания; Гёте и Шекспир равняются целому университету. Чтением человек переживает века.
Александр Герцен