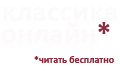Русская и мировая классика Переводы и оригиналы |
Глава сорок шестая
Уже пробило восемь часов, когда я очутился в атмосфере стружек и свежего леса. Весь берег был застроен доками и мастерскими, в которых строились лодки и изготовлялись мачты, весла и блоки. Эта часть города была мне совершенно незнакома. Спустившись вниз по реке, я узнал, что место, которое я отыскивал, находится совершенно не там, где я полагал, и что мне нелегко будет его найти. Адрес, который мне дали, был: по набережной Мельничного пруда, близ Чинковского Бассейна. А о Чинковском Бассейне я знал только то, что он находится по соседству старого Грин-Копперского канатного завода.
Я не стану описывать, как я плутал по грязи и щебню, нанесенному приливом; между сухими доками, в которых чинились корабли и ломались старые, негодные их остовы; по дворам разных корабельных мастеров; между заржавленными якорями, глубоко въевшимися в землю; взбираясь на груды бочек и тесу и встречая чуть не на каждом шагу канатные заводы, но все не тот, который мне был нужен. Не раз, минуя место, когда был от него в нескольких шагах, я, наконец, неожиданно очутился на набережной Мельничного пруда. То был уголок очень свежий во всех отношениях; прохладный ветер с реки гулял тут на просторе; там и сям росло несколько деревьев; поодаль возвышался остов развалившейся мельницы. А вот и он, старый Грин-Копперский завод с своею бесконечною перспективою, освещенною луною.
Выбрав из нескольких опрятных домиков, выходивших на набережную Мельничного пруда, тот, который был в три этажа с деревянным фасадом и круглым окном, я взглянул на дверь и прочел на доске имя миссис Уимпель. Ее-то мне и было нужно; я позвонил; дверь отворила мне женщина пожилая, дородная и довольно приятной наружности, но тотчас же была сменена Гербертом, который ввел меня в гостиную и запер за собою дверь. Как-то приятно было видеть это знакомое лицо совершенно как дома в этом неизвестном, чуждом мне месте, и я смотрел на него совершенно иначе, чем на угловой шкаф с хрусталем и фарфором, на раковины, лежавшие на камине, раскрашенные гравюры по стенам, изображавшие смерть Кука, спуск корабля и его величество короля Георга III, гуляющего на Виндзорской террасе в парадном кучерском наряде, лосинах и ботфортах.
— Все устроилось, как нельзя лучше, любезный Гендель, — сказал Герберт. — Он совершенно доволен, но очень желает тебя видеть. Моя Кларочка теперь у отца, и если ты подождешь, покуда она воротится, то я тебя представлю ей, и тогда мы пойдем наверх… Это опять её отец.
Я в эту минуту слышал какое-то грозное ворчание над нашими головами и лицо мое, вероятно, обнаружило мое удивление.
— Я воображаю себе, что это должно быть за старая бестия! — улыбаясь, сказал Герберт. — Я его никогда не видал. Слышишь, как несет ромом? Он с ним неразлучен.
— С ромом-то? — спросил я.
— Да, — отвечал Герберт, — и ты можешь себе представить, как он облегчает его подагру. Он прячет всю провизию у себя наверху и каждую безделицу выдает собственноручно. Все стоит на полках у него в головах, он всякую вещь сам взвешивает. Его комната должна походить на мелочную лавочку.
Покуда мы рассуждали таким образом, ворчание перешло в продолжительный рев, который через несколько времени совершенно замер.
— Да может ли быть иначе? — сказал Герберт в объяснение. — Непременно хочет сам резать сыр. Человек с подагрой в руке и болью во всяком месте не может одолеть целый круг сыра, не повредив себе руки.
Он, должно быть, очень ушиб себя, потому что заревел во второй раз еще сильнее.
— Миссис Уимпель рада-радехонька иметь Провиса жильцом, — сказал Герберт. — Какой же человек станет выносить такой шум? Диковинное это место, Гендель, не правда ли?
Действительно, место было диковинное, по необыкновенно опрятно и чисто.
— Миссис Уимпель замечательная хозяйка, — ответил Герберт на мое замечание. — И я, право, не знаю, что бы сделала моя Клара без её материнских попечений. Ведь у Клары нет ни матери, ни одного родственника кроме этого ревуна.
— Конечно, это не настоящее его имя, Герберт?
— Нет, нет, это я ему дал такую кличку. Его зовут мистер Барлэ. Но какое счастье, что сын такого отца и матери, каковы мои, влюбился в девушку, которая не будет докучать ни себе, ни другим, своим родством.
Герберт уж и прежде рассказывал мне и теперь снова повторил, что он в первый раз познакомился с мисс Кларою Барлэ, когда она была еще в школе в Гаммерсмите, и что когда она была отозвана оттуда, чтоб ухаживать за больным отцом, они оба открылись в своей любви доброй миссис Уимпель, которая с тех пор поощряла, и сдерживала их чувства с необыкновенной добротой и уменьем. Понятно, что ничего в этом роде не могло быть открыто старому Барлэ, психологические понятия которого не простирались далее подагры, рома и судов.
Покуда мы разговаривали вполголоса и потолочные балки дрожали от постоянного ворчанья старого Барлэ, дверь потихоньку отворилась и в комнату вошла хорошенькая девушка, лет двадцати или около того, с мягкими черными глазами и добродушным выражением; она несла корзинку, которую Герберт поспешил взять у неё из рук и, подведя ее ко мне, совершенно раскрасневшуюся, представил просто как „Клару“. Она, действительно, была прелестная девушка и могла бы показаться явленною красавицею из сказок, которую поработил этот жестокий людоед, старый Барлэ.
— Только взгляни сюда, — сказал с нежною и сострадательною улыбкой Герберт, указывая мне на корзинку, — это весь ужин бедной Клары, в том виде, как он выдается ей каждый вечер. Вот её порция хлеба, вот ломоть сыра, а вот ром, который я всегда выпиваю. А это вот завтрашний завтрак мистера Барлэ, выданный с вечера, чтоб его завтра приготовили. Две бараньи котлетки, три картофелины, несколько раздавленных горошинок, немного муки, две унции масла, щепотка соли и куча черного перца. Все это варится вместе и принимается внутрь в горячем виде. Должно быть, прекрасное лекарство от подагры.
Было что-то особенно привлекательное в этой покорности судьбе, которая выражалась во взглядах Клары, устремленных на корзинку с провизией, пока Герберт перебирал то, что в ней находилось. Столько доверчивости, любви и невинности было в этой непринужденности, с которою она позволила Герберту обвить себя рукою вокруг талии, и столько беспомощной кротости, что я за все деньги, лежавшие в моем бумажнике (которого я, впрочем, еще не открывал), не желал бы нарушить согласие между ними.
Я смотрел на нее с удовольствием и удивлением, как вдруг ворчанье старика снова перешло в рев, сопровождавшийся страшным стуком, как будто великан с деревянной ногой хотел пробить ею пол, чтоб добраться до нас. Услышав этот шум, Клара сказала:
— Это, папа меня зовет, душка! — И убежала.
— Вот бессовестная-то старая обжора и пьяница, — сказал Герберт. — Чего ты думаешь он теперь хочет, Гендель?
— Не знаю, — ответил я, — вероятно, чего-нибудь выпить?
— Именно! — подхватил Герберт, как будто я отгадал что-нибудь очень удивительное. — Он держит свой грог, уже совсем готовый, в маленькой кадушке на столе. Ты сию минуту услышишь, как Клара станет помогать ему привстать, чтоб напиться. Вот он поднимается. (Послышался продолжительный рев, а за ним последовал новый удар, так что потолок задрожал). Теперь он пьет, — сказал Герберт, когда последовало несколько минут молчания. — А теперь, — добавил он, когда рев снова раздался, — он снова залег!
Клара вскоре возвратилась и Герберт провел меня наверх повидаться с нашим затворником. Проходя мимо дверей мистера Барлэ, мы слышали, как он бормотал про себя хриплым голосом, который возвышался и понижался, как порывы ветра; всего яснее слышался один постоянный припев:
— Ай! Вот тебе и старый Билль Барлэ, окаянные твои глаза; вот тебе и старый Билль Барлэ, окаянные твои глаза. Вот он, старый Билль Барлэ, как снят Бог, лежит на спине. Валяется на спине, как старая дохлая камбала. Вот те и старый Билль Барлэ, окаянные твои глаза. Аии! чёрт бы тебя взял!
Такого-то рода утешение, по словам Герберта, невидимый Барлэ бормотал себе под нос день и ночь, и, когда было светло, смотрел в телескоп, устроенный у его постели, так, что он не вставая мог видеть все течение реки.
Провис, по-видимому, очень удобно поместился на своей новой квартире. Две маленькие комнатки, которые он занимал, правда, очень походили на каюты, но воздух в них был прохладнее и не так сперт, как внизу, и к тому же мистера Барлэ было там гораздо менее слышно. Провис не выразил никакого беспокойства и, кажется, не имел даже серьезных опасений; я только заметил, что он очень смягчился, как и в чем, я ни в ту минуту, ни после не мог себе дать отчета.
Одумавшись на досуге, в продолжение целого дня я решился не говорить ему вовсе о Компесоне. Непримиримая вражда, которую он питал к этому человеку, могла бы побудить Провиса отыскать его и таким образом опрометчиво броситься навстречу открытой погибели. Потому, как только мы вдвоем поместились перед огнем, я прежде всего спросил его, полагается ли он на суждение и сведение Уэммика?
— Э-э, милый мальчик! — ответил он кивая головою. — Джаггерс знает.
— Я говорил с Уэммиком, — сказал я, — и пришел вам передать его совет и предостережение.
Я рассказал ему все отчетливо и подробно, опустив только тот факт, о котором я только что упоминал. Я рассказал ему, как Уэммик слыхал в Ньюгейте (от чиновников или от заключенных, неизвестно), что он находится под подозрением и что за моею квартирою постоянно следят; как Уэммик советовал ему быть поосмотрительнее, а мне на некоторое время держаться поодаль от него; и что, наконец, Уэммик сказал о бегстве из Англии. Я прибавил, что, разумеется, я отправлюсь с ним или последую за ним, как Уэммик решит. Я не распространялся о том, что за этим последует, я даже сам не был в том уверен теперь, как видел его смягченным и в явной опасности, ради меня. Что ж касается до перемены образа жизни и увеличения расходов, то я предоставил на его суждение, не был ли бы подобный шаг в настоящих шатких и затруднительных обстоятельствах по меньшей мере смешон, чтоб не сказать хуже.
Он не мог опровергнуть столь убедительного доказательства и вообще был очень благоразумен. Его возвращение в Англию было смелым делом, говорил он, и он всегда считал его таковым, но никогда не хотел, чтоб из смелого оно превратилось в безрассудное, отчаянное дело, и, к тому же он считал себя почти в безопасности, имея таких дельных покровителей.
Герберт, все время задумчиво глядевший на огонь, заметил тогда, что советы Уэммика навели его на мысль, которую не мешало бы привести в исполнение:
— Мы оба хорошие гребцы, Гендель, и когда понадобится, можем сами спуститься вниз по течению. Тогда не понадобится ни лодки, ни лодочника; хоть один источник подозрения будет избегнут, и то уже много. Несмотря на то, что теперь не сезон кататься на лодке, право, очень хорошо было бы, если б ты сразу завел бы лодку у лестницы Темпла и взял привычку грести вниз и вверх по реке? Ты бы взял привычку и никто бы этого не заметил, или, по крайней мере, не обратил бы на это внимания. Покатайся раз двадцать или пятьдесят, и никто не удивится, если ты поедешь в двадцать или пятьдесят первый раз.
Этот план мне очень понравился, а Провис был от него в восторге. Мы решили, что мысль Герберта будет немедленно приведена в исполнение, и что Провис, если и увидит нас на реке, то прикинется, что нас не знает. Далее мы решили, что, увидев нас, он будет опускать штору на окне, выходившем на восток в знак того, что все благополучно.
Когда наши совещание окончились и все было улажено, я встал, чтоб идти домой, заметив Герберту, что нам бы лучше возвращаться порознь, и потому я отправлюсь получасом ранее.
— Мне что-то очень не хочется оставлять вас здесь, — сказал я Провису, — хотя я уверен, что вы гораздо безопаснее здесь, чем у меня. До свиданья!
— Милый мальчик, — ответил он, схватив мою руку. — Не знаю, когда еще мы свидимся, и мне не нравится ваше «до свиданья». Скажите лучше: доброй ночи.
— Ну, так, доброй ночи! Герберт будет поддерживать правильные сношения между нами, а когда придет время, вы можете быть уверены, что я буду готов. Доброй ночи, доброй ночи!
Мы почли за лучшее, чтоб он оставался в своих собственных комнатах, и потому, провожая нас, он вышел только на площадку лестницы перед своею дверью и светил нам, протянув руку со свечою через перила. Оглянувшись, чтобы взглянуть на него в последний раз, я невольно припомнил первую ночь по его приезде, когда мы находились в обратном положении и когда я не подозревал еще, что мне когда-нибудь будет так тяжело и грустно с ним расставаться, как теперь.
Старый Барлэ продолжал ворчать и божиться, когда мы проходили мимо его дверей; он, по-видимому, и не переставал, да и не намерен был перестать. Сойдя с лестницы, я спросил Герберта: удержал ли наш жилец имя Провиса? Он ответил, что, конечно, нет; жилец называется теперь мистером Кэмбелем. Он также объяснил мне, что всем в доме было только известно, что мистер Кэмбел оставлен на его (Герберта) попечении, и что потому его личные интересы требуют, чтоб мистер Кэмбел был бы всегда под тщательным присмотром и вел бы самую отшельническую жизнь. Поэтому, когда вы вошли в гостиную, где миссис Уимпель и Клара сидели за работой, то я ни слова не сказал об участии, которое я питаю к мистеру Кэмбелю.
Когда я распрощался с хорошенькой черноглазой девушкой и доброю женщиной, еще не потерявшею вкуса к невинным проделкам неподдельной любви, то даже старый Грин-Копперский канатный завод показался мне совсем иным. Старый Барлэ мог быть стар, как горы, и мог ругаться и божиться, как целая армия солдат; но в этом доме, у Чинковского бассейна, было довольно молодости и светлых надежд, чтоб наполнить его до краев. Мне пришла в голову Эстелла и наше прощанье, и я пошел домой совершенно грустный.
Все было так же спокойно в Темпле, как и всегда. Окна, когда-то занимаемые Провисом, были теперь темны и угрюмы, и никто не прогуливался в Гарден-Корте. Два-три раза прошел я мимо фонтана, прежде чем войти домой. Герберт, возвратившись, подошел к моей постели — потому что усталый и нравственно измученный, я тотчас же лег в постель — отрапортовал мне то же самое. Отворив затем одно из окон, он выглянула на улицу, ярко освещенную луною, и объявил мне, что тротуар был так же пуст, как любая церковь в этот час.
На следующий день, я отправился покупать лодку. Дело было скоро улажено, и лодка покачивалась у лестницы Темпла; я мог быть в ней в одну или две минуты. Я принялся разъезжать по реке для практики, иногда с Гербертом, иногда один. Я часто выезжал в холод, дождь и снег, но после нескольких раз никто и не обращал на меня внимания. Сначала я держался выше Блэкфрайерского моста, но потом, когда часы прилива миновали, принялся ездить к Лондонскому мосту. В то время стоял еще старый Лондонский мост и в известные времена прилива ездить там было довольно опасно, и потому он пользовался дурною славою. Но приглядевшись к тому, как делали другие, я скоро приучился «пролетать» под мостом и уже начинал разъезжать между кораблями около Пуля и вниз до Эрита. В первый раз, как я проехал мимо набережной Мельничного Пруда, я греб вместе с Гербертом,и мы оба видели, как спустилась штора на окне, выходившем на восток. Герберт редко бывал там менее трех раз в неделю и всякий раз приносил мне хорошие известия. Но все же было довольно причин опасаться, и я не мог отделаться от мысли, что за мною следят. Раз эта мысль овладеет человеком, она преследует его, как призрак; трудно счесть в скольких невинных людях я подозревал шпионов.
Одним словом, я постоянно дрожал за безрассудство человека, которого теперь приходилось прятать. Герберт иногда говаривал мне, что ему всегда приятно смотреть в сумерки на реку и думать, что она течет к Кларе со всем, что она несет на своих волнах. Но я с ужасом думал, что она течет и к Магничу, и что черные пятна на её поверхности могут быть его преследователями, которые быстро, но без шума плывут, чтоб накрыть и схватить его.
Глава 46
«Большие надежды» Ч. Диккенс
Искать произведения | авторов | цитаты | отрывки ![]()
Читайте лучшие произведения русской и мировой литературы полностью онлайн бесплатно и без регистрации, без сокращений. Бесплатное чтение книг.
Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению.
Фрэнсис Бэкон
Без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни слова, ни многосторонней шири понимания; Гёте и Шекспир равняются целому университету. Чтением человек переживает века.
Александр Герцен